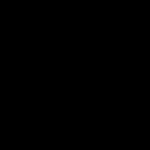Восточная ориентация русской культуры
Идеи П.Савицкого о смысле и организации, лежащих в основании бытия, переводили карсавинскую религиозную доктрину на научные рельсы. Идея всеединства получала новый импульс. Чувствовалось, что евразийцами были проработаны и переосмыслены не только исторические раздумья Вернадского-сына, но и ноосферные построения Вернадского-отца. Утверждались концепция монизма и единство мироздания, которое обеспечивалось глубинными смыслами, лежащими в основании материального мира и проступающими сквозь него. Вводилась идея номогенеза, который рассматривался как «заданность, как определенная способность материи к организации и самоорганизации» [21]. Пантеистический идеализм евразийской онтологии конкретизировался в представлениях Н.Трубецкого об «идее-правительнице», понимаемой как духовное начало, производное от Божественной Идеи и способное к творению мира. (Евразийцев, однако, эта идея интересовала только в аспекте творения истории, т.е. не в онтологическом, а в историософском плане.) Звучащие почти научно термины, означающие скрытые разумные тенденции, заложенные в мироздании («заданность», «организация» и «самоорганизация») есть ничто иное, как другое наименование идеи религиозно-мистического триединства: Божественной Воли, «допускающей и предполагающей понятие свободы» [22], Божественного Сознания, насыщающего сотворенную природу радужным смыслом, и Божественного Самосознания, проявленного в человеке как искра творчества и совести, выделяющая его из животного царства. Мир, порожденный высшими силами, предстает у евразийцев одухотворенным организмом, триединым в своем духовно-душевно-телесном бытии и пронизанным общим божественным смыслом. Любой отдельный предмет, участок или процесс этого мира несет в себе частицу, отдельную идею общего смысла. И общая, и частная идея проявляются под действием жизненной силы, энергии, или стихии бытия, без которой свыше предопределенный процесс организации мира просто не осуществится. Перед нами особая онтология, одновременно стихийно-органическая, природная и телеологическая заданная, идеалистическая, духовная. Именно здесь становятся понятными истоки евразийской онтологии, явно восходящие к Платону и представляющие собой своеобразный синтез во многом христианизированного платонизма и философии волюнтаризма и натурализма в духе А.Бергсона. Сплав более чем своеобразный и не лишенный внутренних противоречий!
Историософия евразийцев — это пространное, пронизанное раздумьями повествование о том, как на протяжении исторического пути складывается и раскрывает свое содержание национальная личность Россия-Евразия как во взаимодействии с Востоком и Западом, так и во внутреннем нахождении собственного пути. (Это и составляет основы российского национального самопознания по Н.Трубецкому). Евразийские раздумья о смысле истории опираются на богатую в содержательном отношении отечественную традицию, к которой следует отнести мыслителей славянофильского направления Н.Данилевского, Н.Гоголя, Ф.Достоевского, К.Леонтьева, Н.Федорова, размышлявших об особом пути для России. Среди зарубежных мыслителей прошлого и настоящего к предшественникам и союзникам евразийцев можно отнести Дж.Вико, И.Гердера, немецких романтиков, заговоривших о необходимости для Европы освоения духовного опыта Востока, Жозефа де Местра (Л.Карсавин даже посвятил ему специальный очерк), Г.Тарда, представителей направления «консервативной революции» (Миллера ван ден Брука, Освальда Шпенглера, Карла Шмидта), основателя эонической историософии немецкого мыслители Вальтера Шубарта. Евразийская историософия была близка к так называемой мультилинейной схеме развития человечества, согласно которой история не есть торжество однонаправленного прогресса во главе с Европой, а представляет собой раскрытие всего богатства возможностей, различно представленных во множестве культур. Ценность мультилинейного подхода, считающего основной единицей исторического процесса отдельную цивилизацию, состояла для евразийцев в том, что он позволил «рассматривать как основную ценность культуры ее своеобразие, неповторимость» [23]. Правда, иногда эта основная единица исторического процесса расширялась у евразийцев до размера целого континента, и разговор о судьбах народов велся в континентальном измерении (близком к концепции суперэтносов, разработанной Л.Гумилевым). Поскольку главным континентом, интересовавшим рассматриваемых мыслителей была не Европа и не Азия, а, именно, Евразия, то неповторимость и своеобразие исторического и культурного развития евразийского континента становились центром внимания и основной заботой. Отсюда родился известный тезис, четко очерчивающий пространственные границы того культурного поля, которое обнимал евразийский континент: «Евразия — особый географический и культурный мир». Особенность евразийского мира заключалась в его самобытной срединности, не укладывающейся ни в европейскую, ни в азиатскую формулу и имеющей глубокое сакральное значение. В особенности данная срединность относилась к России. А.Н.Зелинский справедливо указал на это следующим образом: «Если материк Евразия европейские теоретики-геополитики именуют «Хартлендом Экумены» («Сердцевиной Земли»), то Россию евразийцы назвали «Хартлендом Евразийского материка». Географическое пространство между Западом и Востоком, которое занимала и занимает Россия, — становой хребет Евразии. Тысячелетиями через евразийские равнины с Запада на Восток и с Востока на Запад текли племена и народы, рождались и гибли кочевые империи, осуществлялась непрекращающаяся связь между традиционным ареалом Средиземноморско-атлантической цивилизации и восточным Тихоокеанским и геокультурным регионом» [24]. Срединная Россия, выступая, таким образом, континентом внутри континента, определила срединный характер евразийской историософии, ее приверженность к идее третьего пути, пролегавшего между всеми известными полюсами национальной идеологии — белой и красной, правой и левой, тоталитарной и демократической моделями развития. При этом культура, считавшаяся одним из основных факторов, которые обуславливают своеобразие страны или континента, должна развиваться спонтанно и «органически» (Н.Трубецкой). Выступая против позитивистской трактовки органической природы культуры и против органических теорий государства, выдвигаемых такими мыслителями, как Д.Фортескью, А.Шефле, Г.Спенсер, Р.Вормс, И.Блюнчли, биологизировавших социум и государственность, евразийцы все же порой (может быть, сами того не желая) говорили о культуре преимущественно с морфологической точки зрения как о душе, оживляющей государственный организм и живущей по своим сложным циклам. Критикуя натурализм, они не считали нужным отрывать «идею» от «материала» (Н.Алексеев), а культуру от того географического ареала, в котором она развивается. Отсюда противостоящая линейной схеме европейского прогрессизма евразийская склонность к изучению «циклов истории», «ритмов Евразии», «подъемов и депрессий» в развитии России (П.Савицкий со свойственной ему пунктуальностью и добросовестностью выделил симметричное число признаков — 27 с той и с другой стороны).
Исторические построения евразийцев испытали определенное влияний гегельянства. Зарубежный исследователь движения О.Босс писал:
«Евразийцы различали три этапа мировой истории, которые следуют друг за другом, как тезис, антитезис и синтез. Первая эпоха, для которой характерна примитивность техники, прошла под символом господства религии и этики над социологией. Вторая эпоха принесла максимальное увеличение и усложнение техники, господство разума над религией и этикой. Последним явлением этого периода стал марксизм. Третья, лишь находящаяся в стадии становления, эпоха синтеза должна наряду с дальнейшим техническим прогрессом вновь установить господство религии и этики над социологией... Евразийцы, конечно, были убеждены, что обширный синтез должен быть проведен не Европой, а Россией-Евразией» [25].
История в восприятии евразийцев всегда была тесно переплетена с географией. Само по себе это не содержало принципиальной новизны или открытая, ибо географический фактор в историческом процессе с разных сторон рассматривался в трудах И.Гердера, И.Тэна, В.Татищева, С.Соловьева, В.Ключевского, В.Менделеева, В.Ламанского, И.Щапова, В.Докучаева. Но в евразийстве данный момент оказался столь заметным и выпуклым, что оппоненты стали обвинять движение в «географическом детерминизме». Однако, эти обвинения едва ли справедливы: концепция, утверждавшая обусловленность исторического процесса природным фактором отнюдь не выглядела искусственной натяжкой, а представала естественным развитием историософской мысли, осознавшей новые рубежи самопознания человечества. Для обозначения географических границ каждой культуры и определения среды ее развертывания, «почвы», во многом влияющей на характер культурного развития, был введен новый термин — «месторазвитие». (Говоря языком «последнего евразийца» Л.Гумилева, «месторазвитие» — это одновременно и ландшафт, и этнос.) Г.Вернадский полагал, что выбор своего «месторазвития», осуществляемый тем или иным народом, не произволен, а предопределен, причем не только природно, но и провиденциально. Мистическая тяга к обладанию своим жизненным пространством побуждает народы к переселениям, миграциям, мирным колонизациям новых территорий (в случае, если они ему пока не принадлежат, но суждены) и к справедливым, оборонительным по сути, жертвенным войнам (если принадлежащая народу его исконная земля несправедливо и против его воли захватывается агрессором). Поэтому патриотизм русских, основан на их беспрецедентной мистической привязанности к своей земле, а наблюдаемое на протяжении всей истории непрерывное и упорное стремление русского народа как на Запад, так и на Восток «против Солнца» не есть имперские амбиции (ибо строго говоря, историческое время Российской империи составляет незначительную часть от общих сроков существования нашего государства), но представляет собой внутреннюю глубинную логику «месторазвития», никак несводимую к мелкому честолюбию отдельных личностей.